Владимир Короленко
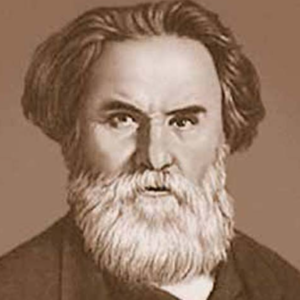
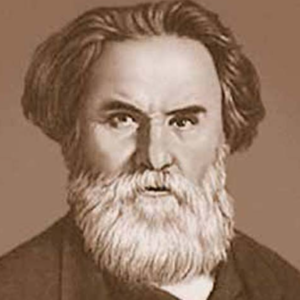
Однажды, когда мы сидели таким образом, погруженные в созерцание неподвижных поплавков, с глазами, прикованными к зеленой глубине бадьи, — из действительного мира, то есть со стороны нашего дома, проник в наш фантастический уголок неприятный и резкий голос лакея Павла. Он, очевидно, приближался к нам и кричал:
— Панычи, панычи, э-эй! Идить бо до покою!
«Идти до покою», — значило идти в комнаты, что нас на этот раз несколько озадачило. Во-первых, почему это просто «до покою», а не к обеду, который в этот день действительно должен был происходить ранее обыкновенного, так как отец не уезжал на службу. Во-вторых, почему зовет именно Павел, которого посылал только отец в экстренных случаях, — тогда как обыкновенно от имени матери звала нас служанка Килимка. В-третьих, все это было нам очень неприятно, как будто именно этот несвоевременный призыв должен вспугнуть волшебную рыбу, которая как раз в эту минуту, казалось, уже плывет в невидимой глубине к нашим удочкам. Наконец Павел и вообще был человек слишком трезвый, отчасти даже насмешливый, и его излишне серьезные замечания разрушили не одну нашу иллюзию.
Через полминуты этот Павел стоял, несколько даже удивленный, на нашем дворике и смотрел на нас, сильно сконфуженных, своими серьезно выпученными и слегка глуповатыми глазами. Мы оставались в прежних позах, но это только потому, что нам было слишком совестно, да и некогда уже скрывать от него свой образ действий. В сущности же, с первой минуты появления этой фигуры в нашем мире, мы оба почувствовали с особенной ясностью, что наше занятие кажется Павлу очень глупым, что рыбу в бадьях никто не ловит, что в руках у нас даже и не удочки, а простые ветки тополя, с медными булавками, и что перед нами только старая бадья с загнившей водой.
— Э? — протянул Павел, приходя в себя от первоначального удивления. — А що се вы робите?
— Так… — ответил брат угрюмо.
Павел взял из моих рук удочку, осмотрел ее и сказал:
— Разве ж это удилище? Удилища надо делать из орешника.
Потом пощупал нитку и сообщил, что нужен тут конский волос, да его еще нужно заплести умеючи; потом обратил внимание на булавочные крючки и объяснил, что над таким крючком, без зазубрины, даже и в пруду рыба только смеется. Стащит червяка и уйдет. Наконец, подойдя к бадье, он тряхнул ее слегка своей сильной рукой. Неизмеримая глубина нашего зеленого омута колыхнулась, помутнела, фантастические существа жалобно заметались и исчезли, как бы сознавая, что их мир колеблется в самых устоях. Обнажилась часть дна, — простые доски, облипшие какой-то зеленой мутью, — а снизу поднялись пузыри и сильный запах, который на этот раз и нам показался уже не особенно приятным.
— Воняет, — сказал Павел презрительно. — От, идить до покою, пан кличе.
— Зачем?
— Идить, то и побачите.
Я и до сих пор очень ясно помню эту минуту столкновения наших иллюзий с трезвою действительностью в лице Павла. Мы чувствовали себя совершенными дураками, и нам было совестно оставаться на верхушке забора, в позах рыбаков, но совестно также и слезать под серьезным взглядом Павла. Однако делать было нечего. Мы спустились с забора, бросив удочки как попало, и тихо побрели к дому. Павел еще раз посмотрел удочки, пощупал пальцами размокшие нитки, повел носом около бадьи, в которой вода все еще продолжала бродить и пускать пузыри, и, в довершение всего, толкнул ногой старый кузов. Кузов как-то жалко и беспомощно крякнул, шевельнулся, и еще одна доска вывалилась из него в мусорную кучу…
Таковы были обстоятельства, предшествовавшие той минуте, когда нашему юному вниманию предложен был афоризм о назначении жизни и о том, для чего, в сущности, создан человек…